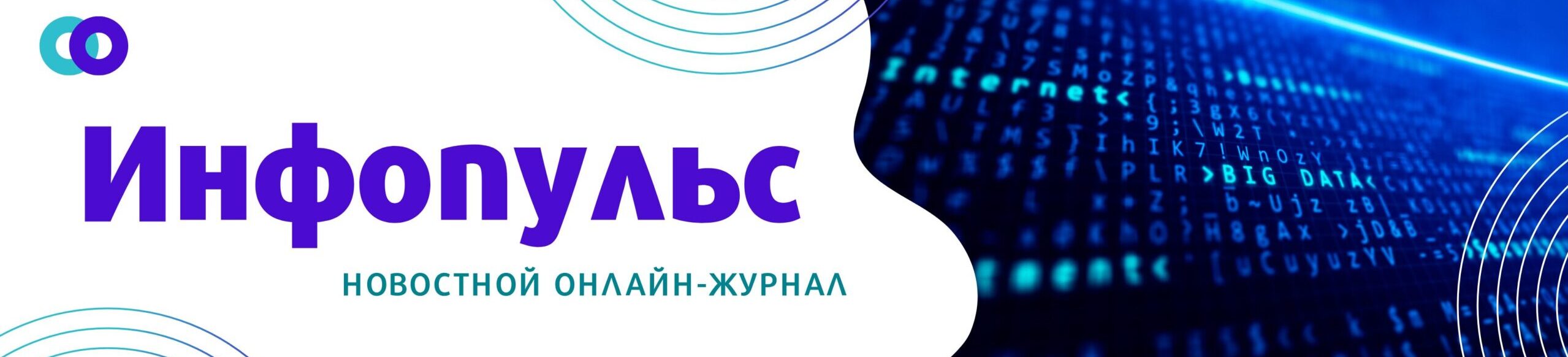Дмитрий Харитонов рассказал о ситуации на рынке и о планах холдинга

Москва. 24 октября. — Многопрофильный холдинг T1, созданный на базе активов одной из старейших в РФ IT-компаний «Техносерв», на фоне общего замедления рынка планирует снизить прогноз по росту выручки, но сохранить темпы выше индустрии. Компания работает над снижением себестоимости своих продуктов, начав этот процесс еще до сообщений о планируемой отмене льготы по НДС, осознавая, что бюджеты заказчиков на IT не безграничны.
Т1 не исключает возможности сделок M&A, изучает десятки компаний, но в ближайшие месяцы сделок ждать не стоит. Вопрос IPO неактуален для компании: средства можно привлечь и через выпуск облигаций, а выйти в новые бизнес-сегменты — путем создания совместных предприятий, и до конца года планируется объявить о новом СП, рассказал в интервью «Интерфаксу» генеральный директор Т1 Дмитрий Харитонов.
— В начале года Т1 давал прогноз по росту выручки в 2025 году на 12%. Сохраняете ли вы этот прогноз или пересмотрели его?
— Рынок довольно серьезно замедлился. Ранее отрасль демонстрировала высокий темп роста — порядка 15-20% ежегодно, и мы демонстрировали увеличение доходов на 12-15% по разным сегментам. Сейчас же динамика существенно ниже. Поэтому и наш собственный прогноз скорректируется, но мы планируем сохранить динамику роста выше рынка.
— С чем это связано?
— Уже по результатам I квартала стало ясно, что многие компании-заказчики переносят реализацию части своих планов, связанных с IT и цифровизацией, на следующий год. Некоторые даже публично сообщили о заморозке ряда проектов и об отказе от инвестиций в IT, поэтому мы внесли правки в свои планы еще в первой половине этого года.
— В чем основные причины переноса проектов?
— Причин несколько. В частности, в 2023-2024 годах отечественные компании активно инвестировали в импортозамещение, в том числе, руководствуясь и регуляторными требованиями. Тогда никто не предполагал сокращать свои бюджеты. К началу 2025 года мы увидели, что история массового внедрения отжила свое: бизнес стал прицельнее и детальнее оценивать эффект от уже внедренных решений, и только потом, с учетом этого опыта, уже продолжать инвестировать в IT. И это актуально для всех направлений — инфраструктуры, программных сервисов и даже для искусственного интеллекта, о котором говорят, что его развитие измеряется двузначными цифрами (в реальности же это все же не совсем так).
Наш опыт показывает, что бизнес стал более осторожен. Но при этом есть часть инициатив, которые некоторые клиенты вообще заморозили; а часть перенесли на I-II квартал следующего года.
— В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий отмену льготы по НДС для IT-компаний. В правительстве уже сообщили, что могут отложить эту меру. Но если льгота будет все же отменена, как это может повлиять на отрасль?
— Как мы все могли понаблюдать, влияние очень выраженное: как только в СМИ появились сообщения о планируемой отмене льготы по НДС, тут же котировки у всех публичных IT-компаний упали, весь рынок в моменте очень наглядно просел. Хотя здесь важно понимать, что идет процесс, связанный с пересмотром налогового режима в целом. Помимо НДС обсуждалась и отмена или пересмотр льготы по страховому взносу. И мы склонны относиться к этому уже как к реальности, скорее всего, мы будем отчислять 15%, и это в 2 раза выше, чем было в последние годы.
Отмена льготы по НДС коснется целого ряда сервисов, в первую очередь — программных продуктов, но есть мнения, что это будет актуально и для услуг процессинга и эквайринга. Сможет ли тот же самый финансовый сектор взять на себя НДС? Вряд ли. В том числе, учитывая высокие требования со стороны регулятора. А в результате может пострадать финальный потребитель услуг.
Пока все это вызывает настороженность, и мы активно ищем способы смягчить последствия для своего клиента, который не сможет выдержать последовательное удорожание продукта или сервиса. И в этом случае мы работаем над тем, чтобы удешевить наши IT-решения для конечного потребителя.
Как можно сделать IT дешевле? Наверное, как минимум — прекратить масштабироваться линейно: то есть, не расширять штат или же научиться делать существующим персоналом больший объем работ. Потому что себестоимость у нас понятна: основная доля наших затрат — это фонд оплаты труда.
Истины ради, стоит отметить, что об этом мы задумались задолго до появления волны слухов о налоговых изменениях.
— Нет ли тут риска потери кадров?
— Вы, наверное, намекаете на известный вопрос о том, что получится, если корову меньше кормить и больше доить? Я, конечно же, имею в виду иной подход.
Задолго до сообщений о налоговых изменениях было понятно: рынок IT растет очень быстро, и в какой-то момент вопрос «кто будет платить за этот банкет?» станет максимально актуальным. Бизнес-потребитель IT, как я уже сказал, выдержать такую инвестиционную нагрузку не сможет. При этом IT-потребности (иногда жизненно необходимые) только растут. И здесь единственный способ — остановить линейное масштабирование и перейти на технологии, которые позволят кратно сократить себестоимость. Это может быть, к примеру, vibe coding, copilot — все, что позволит нам самим тратить на разработку меньше.
Мы уже почти год проводим свой внутренний пилот с использованием и пошаговым расширением зоны покрытия наших процессов технологиями на базе ИИ. Численность наша велика, и к сегодняшнему дню в пилотной зоне у нас уже порядка 4,5 тыс. разработчиков, которые используют ИИ-ассистентов разработчика. В том числе, автоматизируя генерацию кода, тестирования, создания документации.
Суммарно это уже делает наши продукты и сервисы дешевле, а в целом мы целимся в увеличение производительности наших разработчиков (с сохранением имеющихся мощностей) процентов на 20, и код должен будет писаться быстрее на треть.
Повторюсь: в нашей жизни эта история никак не связана с налоговыми изменениями. В последние пару лет мы росли экстра-высокими темпами и с точки зрения выручки, и с точки зрения людей. Дальше такой прирост по персоналу мы вряд ли сможем сохранить, поэтому искали способ купировать будущую проблему на этапе ее зарождения.
И, возвращаясь к вашему вопросу: эти меры могут частично компенсировать ситуацию (с возможной отменой льготы по НДС — ИФ). Компенсируют ли они в полном объеме и каким будет финальное изменение, пока не ясно.
— Как может вырасти стоимость ваших продуктов в случае отмены льготы по НДС?
— Ценообразование в нашем случае прозрачно: наш клиент всегда понимает стоимость продукта или услуги с НДС и без НДС. Мы не имеем права не выставлять НДС. Да, конечно есть границы, в которых мы можем «дать скидку» нашему потребителю, но этот предел ограничен экономикой бизнес-процесса: скидка в 22% априори невозможна.
Избежать вопроса НДС самого по себе нельзя: государство его вводит не просто так, для этого есть необходимость. Поэтому и нам, как холдингу, и нам, как отрасли, повторюсь, нужно искать механизмы, которые кратно сократят себестоимость производства нашего продукта или услуги для отечественного потребителя.
— Т1 ранее создала с «Ростехом» СП по производству оборудования. Что сейчас с этим проектом?
— На самом деле сейчас у нас есть два совместных предприятия. Одно с «Ланитом» — по производству российского банкомата, который уже полностью сертифицирован для работы в банковской отрасли и поставляется на рынок.
Второе предприятие — «Мультиллект» — это наше совместное предприятие с одной из дочерних компаний «Ростеха», и его фокус — на производстве серверов, которые могут быть использованы и на объектах КИИ.
Сейчас наше оборудование проходит финальные испытания и поставки по плану должны начаться до конца года. Решаются вполне рабочие вопросы: какое именно оборудование наиболее востребовано, какого уровня сервера нужны в первую очередь и с какими параметрами, что будет наиболее ходовым товаром.
Конечно, посмотрим на результаты года и дальше будем корректировать наши планы. Это очень динамичный процесс.
— На какой эффект для бизнеса Т1 вы рассчитываете от участия в этих СП?
— Если проанализировать весь наш портфель, не связанный с прямой поставкой лицензий или заказной разработкой ПО, и посмотреть чисто на аппаратный сегмент, то станет понятно, что по структуре выручки у нас сейчас довольно много выпадает на дистрибуцию. Мы выступаем поставщиками для множества клиентов.
Но вы же понимаете, что этот бизнес по своей сущности несет гораздо более низкую добавленную стоимость, чем если мы продаем ПАКи, которые сами производим. Именно поэтому мы запустили два совместных предприятия. Сам объем не принципиален, но его вклад в добавленную стоимость и в нашу экономику — существенный, то есть для нас это вариант быть гораздо более привлекательными экономически.
— Планируете ли вы покупки компаний? Есть ли уже что-то «на столе», с кем-то предметно разговариваете?
— Мы рассматриваем подобные возможности, это регулярный внутренний процесс и в течение года мы изучаем до нескольких десятков компаний, которые полностью или частично могут представлять интерес для покупки.
При этом мы руководствуемся комплиментарностью рассматриваемого бизнеса нашему, потому что хотим понимать на несколько шагов вперед, что именно мы будем делать с приобретением.
То есть, если вы спрашиваете, разговариваем ли мы с собственниками о возможных сделках, то ответ: да, разговариваем, это естественный процесс. У всех есть разные цели: кто-то хочет из бизнеса выйти, кто-то — наоборот — использовать наши мощности для его развития. Далее мы оцениваем, насколько та или иная сделка для нас рискованна и какой потенциальный выхлоп она дает.
В целом у нас всегда есть несколько идей по сделкам в разной степени проработки. Поэтому самого факта такой покупки мы никогда не исключаем, но по статусу на сейчас — это вряд ли тема ближайших 6-9 месяцев.
А вот если говорить о новых совместных предприятиях, то здесь мы надеемся поделиться новостями до конца этого года.
— Смотрите ли вы в сторону IPO?
— Мое мнение: тема IPO слегка перегрета. Может быть, это вызвано моим личным опытом: я уже имел возможность пройти путь от листинга до делистинга с одной из наших IT-компаний.
В целом, практики, которые продвигают Банк России и Московская биржа — классные с точки зрения организации бизнеса в целом. Но я продолжаю настаивать: ничто не мешает бизнесу этим заниматься и без IPO. Собрать хорошую команду, сделать понятную для рынка структуру — разве это плохо? Нет. Сделать программу долгосрочной мотивации персонала — это тоже хороший тон для стабильной команды. Дальше — узнаваемость бренда/продукта — опять же, выстраивай грамотно свою повестку, и эта тема будет со временем отработана. То есть, не нужно для этого получать тикер на бирже. В мире есть масса примеров успешных непубличных компаний, завоевавших себе репутацию — и российских, и международных. Это не самоцель.
Второй момент: входить в публичную историю можно необязательно через IPO, а через выпуск облигаций. То есть, это тоже некоторые обещания, которые ты даешь инвесторам, но не такая строгая история, как IPO. И мы их, к слову, уже выпускали.
И IPO, и облигации — это инструмент привлечения инвестиций. Но зачем ты хочешь привлечь деньги, что ты будешь с ними делать? А есть ли альтернатива для их привлечения? Какие риски при этом, какая у тебя будет головная боль из-за этого? Я задаюсь этими вопросами не с позиции инвестора, который раскачивает фондовый рынок, а именно управленца, который с разных сторон знает, что это из себя представляет и что это дает.
Вот, скажем, у нас есть цель войти в какой-то новый для себя рыночный сегмент. Необязательно для этого искать инвестиции через IPO, можно сделать совместное предприятие. И наш опыт показывает, что это вполне рабочий подход.
Кроме того, IPO сильно зависит не только от внутренних факторов, которые мы можем контролировать, но и от целого ряда внешних, которые должны сложиться. Простой пример, который мы с вами обсуждали ранее: вышла новость — весь рынок просел. Можем ли мы предвидеть налоговые изменения или какие-то другие факторы? Наверное, в целом можно, но это крайне непросто.